
Я могла бы поклясться, он был лучшим, что я видела в жизни. Самое прекрасное создание Господа на много-много миллионов схожих. Все одинаково имеют два глаза, две руки и кожу с пульсирующими под ней венами. И из-за этого меня опять начало крыть – как прекрасна схема, по которой все мы собраны, и СПИД и «Гамлет» тоже одинаково принадлежат созданному нами миру, а звук метался между стенами бетонной коробки бывшего завода. В вены лилось вместе с проглатываемой жидкостью пульсирующее диско с ледяных озер. Он ни секунды не стоял на месте. Каждое его движение было продолжением звучащей вокруг музыки и, совершенно очевидно, он был обдолбан. Его черные глаза и так были бы черными, но сейчас они чернели, как экстатический конец Большого взрыва. Он изгибался и закрывал лицо руками, танцевал. Кайфово было даже думать, какие в его мозгу сейчас расцветают фейерверки. Финальный виток эволюции. Крылья голубя окрашиваются лиловым. Я отбрасываю свой павлиний хвост. Ящерицы выходят из воды. Человек под экстази - высшая точка творения. Мне хотелось вместе с ним сорваться во тьму на американских горках, изгибы которых он сейчас бесстрашно исследовал.
Мимо прошел небритый парень в спортивной кофте и футболке фирмы Acne с лицом Николая II . "У меня встал". Его телесное воплощение было идеальным, другими словами. Мы были уверены, что в нем кровавая наследственность какого-нибудь датского рода, пока он не сказал кому-то за моей спиной "ништяк бля". Ну ладно, мы тоже не мужчины, чтобы обмениваться подобными репликами. Ободранные бетонные стены продолжали отражать звук, а люди выходили на улицу без курток, чтобы покурить. Они выходили в огромный двор, и на слепой стене дома над ними разверзались нарисованные джунгли с огромным туканом и тиграми.
Итак, молодые люди отправляются в путешествие на яхте по средиземному морю, где в это время проводятся правительством ядерные испытания. Память. Удивительная странная штука. Из прочитанного в школе текста со страниц учебника по французскому в памяти осталось только это. Что оказалось впоследствии лаконичным пересказом фильма "Капризное облако" и соответствующей книги. Анонимность текста была так привлекательна. Его безвестная стертость - кроме двух фраз из истории, впечатляющей детей, зрачки которых светятся красным на фотографиях в семейных альбомах. Можно было мысленно написать эту книгу заново: с белоснежной яхтой, солью на загорелой коже, принимающей нежное облучение радиации, с зелеными глазами и университетскими свитерами французских буржуазных влюбленных. Это порочное удовольствие неплохо иллюстрирует то, насколько странно работает наш мозг. И то, что все истории сводятся к одной и той же – истории ядерного забвения, сексуального влечения и океана, который пересекал Одиссей.
Мои родители около 10 лет прожили на дальнем Востоке, в крошечном военном поселке «Тихоокеанский». В повседневной речи его название всегда сокращалось до слова «Техас». Мне было не так много лет, лет 7, и это ставило меня в тупик. На слух всегда казалось, что моя семья жила в том Техасе, из которого родом Дороти. Хотя Дороти вообще-то жила в Канзасе, но это уже всё равно. Разрезанное шоссе золотое пшеничное поле, солнце за горами. Теперь всё очарование этих грез свелось к желанию валяться в пшеничных полях под ярким солнцем. И в крутых ботинках, и чтобы из них торчали носки. К вечернему запаху остывающего асфальта, который знаком по бесчисленным городским вечерам на улице. К тому, что там, должно быть, огромные пульсирующие звезды. К тому, что в Техасе живут классные небритые мужики с голубыми глазами. Вроде того, в спортивной кофте.
Мы обречены на бесконечное повторение, в течение всей жизни, одних и тех же историй. Люди мчались в Вегас через пустыню, вдавливая педали газа своих Кадиллаков, с маниакально покрасневшими глазами за мексиканскими солнечными очками – только за выигрышем? Нет. Они накачивались чем-нибудь и высовывались из окон отелей под вывесками из неоновых трубок, всматриваясь в пустыню. В 60-70-х там производились тестовые ядерные взрывы. Представьте: пустыня, покрытая миниатюрными ядерными грибами на фоне зеленовато-фиолетового неба...
И вот однажды в Москве 2009-го они лежали на раздолбанном диване, который, если и раскладывался, то просто лежал прямо на полу, в белоснежном комке простыней и одеяла. Молодые, с бледной кожей, еле заметными врожденными отметинами по всему телу, как дети. И она подумала, её длинные волосы касались его плеча, и они так и не занимались ничем, просто лежали под перекошенной плохо прибитой полкой, которая могла бы их убить, подумала: если бы за окном сейчас появился ядерный гриб, как прекрасно бы это было.
Прежде чем начнутся все эти порнушные фантазии, я всегда чувствую одно и тоже, что, наверное, чувствуешь, глядя на ядерный взрыв, - удивление. Оно никогда не появляется в первый раз, всегда во второй. Я смотрю на его лицо и думаю, Боже, неужели ничего этого я не заметила раньше? Смотрю и не могу перестать смотреть. Я каждый раз удивляюсь, насколько прекрасна наша природа, что она дала ему эти глаза, и этот рот, и определила, каким совершенно определенным образом будет расти щетина на его щеках. Это самое прекрасное – начало. Какая угодно история может быть заключена потенциально в этих пальцам и этих рваных джинсах, для меня – какая угодно. Стою и рукой не могу пошевелить, в сетях Великого Начала, потому что неожиданно мир стал выглядеть совсем по-другому – из-за того только, как кожа обтягивает эти скулы.
Ханс Питер Линдстром закрыл свой ноутбук, музыка закончилась, зажегся свет в алюминиевых пустых полусферах ламп, бармены зевали у гудящих холодильников с пивом. Ему-то, наверное, никак не понять боль молодых сопливых музыкантов, которым приходится бороться за жалкое место в подборках блогов магазинов одежды хотя бы. Никто из нас никогда не сможет создать что-то по-настоящему прекрасное, как Сикстинская Капелла. Слишком много всего стало в мире. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это оставить надежду, входя в эту дверь, и просто оттягиваться. Мы остались совершенными сиротами в три часа ночи – в то же время, как и европейцы, когда их бары закрываются. Но нам, в отличие от них, почему-то всегда некуда пойти. Мы пошли пить в какое-то странное место рядом с железнодорожными рельсами. По рельсам катились поезда.
Книгу можно прочитать в первый раз только один раз. Кайф от наркотиков проходит. И можно уйму времени провести, увязывая это в один текст, а жизнь всё равно останется бесконечным языковым периодом с одним единственным противопоставлением – в самом конце.

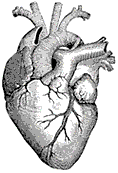


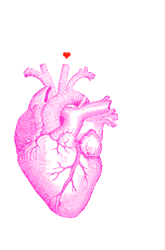



Комментариев нет:
Отправить комментарий